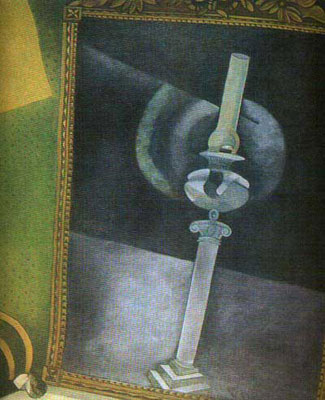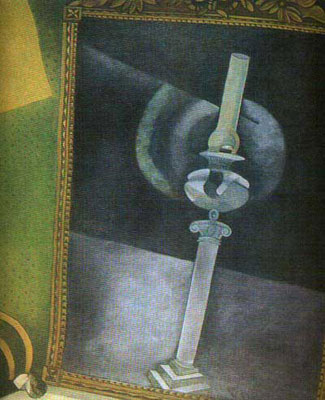|
Елена Григорьева
Когда это было...
Двор
Во дворе росли тополя. Высокие! Голову приходилось задирать. Летом между
ними вешали качели, и мы раскачивались до самого неба. Потом придумали спрыгивать на полном ходу -
кто дальше. Место прыжка очерчивали ногой, обычно моя линия была дальше всех! Зимой на этом же месте
заливали горку, и мы катались до полного изнеможения, пока не становились совсем мокрые. Тогда из
окон неслось: "Ира! Лена!" А мы убегали в дальний двор, чтобы нас не нашли. Бегала я здорово,
быстро - никто догнать не мог! Ещё играли в ножички, но это уже с мальчишками. В одного из них,
Славку Барабанова, я была влюблена по уши. Он был красивый, с ямочками на щеках и синими-синими
глазами. Потом он стал часовщиком, растолстел, женился на однокласснице, спился и умер. А тогда…
такие были страдания! Я дружила с его сестрой, Светкой. Они жили в подвале, в подворотне. Отец у них
пил и по несколько дней где-то пропадал. Однажды его нашли на помойке, кто-то резанул в драке.
Вообще, обитатели нашего двора были люди обычные, из простых: дворники, портнихи, рабочие.
Я одна принадлежала к иному сословию - интеллигенции, да к тому же со странной фамилией
Деловери (мой папа был грек, родом из Одессы), да без отца, да с бабушкой - "женой врага
народа". Когда дразнили "еврейка", плакала, убегала домой и говорила, что никогда больше не
выйду во двор. "Почему они такие жестокие?!" "Ну и не выходи", - успокаивала мама. Но наутро
всё забывалось и я снова шла. Светку дразнили "кнопкой", но мне это казалось необидным. Не то
что "еврейка"!
В доме за помойкой жили два еврейских мальчика, Зяма и Ося. С ними никто не дружил. Их
дразнили, и они уходили домой. Однажды я вступилась за них и дело снова кончилось слезами.
Помню, как сестра рассказала мне о деревьях: они растут, как люди. Я вышла во двор, собрала
девчонок и сказала: "А деревья живые! Когда их ломают, им больно!" Надо мной стали смеяться.
"Живые? Они, может, ножками ходят?" "Да, они пьют воду из земли, растут, как мы, им больно,
они чувствуют!" - кричала я в слезах. Меня никто не понял.
Самые сладостные моменты дворовой жизни, это когда нянечка кидала нам из окошка сахарок: она
заворачивала два или три кусочка колотого сахара в бумажку, обвязывала ниткой и бросала вниз.
Какая это была вкуснятина!
А на третьем этаже нашего дома жил странный старик. Он был в шляпе и в усах. Нам он казался
очень подозрительным, потому что всем предлагал конфетки. А вдруг отравленные? Конфетки мы
брали, но не ели. Потом этот старик видоизменился в какого-то странного типа, рыжего, с
бородкой, неприятного. По-моему, он приставал к девчонкам. Лип, и смотрел как-то тяжело.
Потом, уже в школе, мы с Танькой его вычислили - он продавал какие-то букинистические книжки
и всё время попадался нам на глаза. Точно преследовал. Потом исчез.
Наш двор граничил со школьным двором, так что можно было попасть в школу, не выходя на улицу.
Но для этого надо было залезь на кирпичную кладку, пролезть в узком месте и спрыгнуть во дворе
школы. Иногда это удавалось. Потом лаз заделали и ходили уже всегда через улицу.
Двор был старый, московский: правильный квадрат с лавочками, на которых сидели старушки. То ли
бабушки, то ли соседки, но всегда кто-то из своих, поэтому никогда не было страшно. Страшно было
иногда в подворотне, когда темно, или когда кто-нибудь заходил с улицы. Обычно Светкина мать
начинала кричать, что тут, мол, люди живут, туалет за углом, пошли вон! Но лужа уже набегала…
Ещё было страшно на чёрном ходу. Со двора в наш дом вела лестница, на которой жили "тёмные
личности". Никто никогда их не видел, но знали, что они есть: по шагам, по голосам, по белью
на верёвке. На чёрный ход можно было попасть и из нашей квартиры, из кухни. Это был настоящий
ужас! Дверь закрывалась на крючок изнутри. Иногда нас посылали за банкой с огурцами или ещё
какой-нибудь маринованной едой, которая хранилась за этой дверью. И вот ты подходишь -
осторожно, на цыпочках, чтобы "там" не услышали, снимаешь крючок, открываешь дверь и… о этот
холодок в груди и слабость в ногах, никогда не забуду! Казалось, сейчас кто-то схватит и утащит
неизвестно куда! Сердце бешено колотилось, руки дрожали, но каждый раз всё обходилось.
Квартира
У нас было два коридора: один освещённый, где стоял телефон на тумбочке, и другой тёмный, который
вёл в туалет, захламлённую ванную и на кухню. Тут можно было напороться на любую неприятность: или
на Клавдею с горшком, или на кого-нибудь с горячим супом. Однажды наша домработница Надя обварилась
там кипятком и долго ходила с забинтованной рукой. С тех пор по коридору стали ходить осторожно,
растопырив руки. Вообще-то он больше напоминал какой-то беспросветный и бесконечный туннель. В
глубине этого туннеля, за старой занавеской, стоял старый деревянный сундук. Сверху были навалены
банки, а вот что находилось под крышкой - никто не знал. Кажется, это был нянечкин сундук,
деревенский. Но какой-то неважный, а главный её сундук стоял в комнате, окна которой выходили во
двор. Отсюда она и кидала нам сахарок. Чай нянечка всегда пила вприкуску - брала в рот кусочек
сахара и запивала его чаем, но рассказывала, что в деревне пили вприглядку, и показывала как:
глядишь на сахар, как кот на сметану, и во рту становится сладко. Она любила простые сушки с маком
и пела песню: "Я на горку шла, тяжело несла, уморилась, уморилась, уморяхнулася…" А когда ослепла,
то очень страдала и всё говорила: "Скорей бы кыркнуть", то есть умереть. Она верила в Бога, самого
простого, понятного, который сидит на облаке и всем управляет. Когда я стыдила её и объясняла, как
зародилась вселенная из большого взрыва, она вздыхала и говорила: "Ягодка моя, может, оно и так, но
мне кажется, что что-то такое есть, что Бог всё видит!" Нянечка прожила с нами до самой смерти,
и уже не она, а мы за ней ухаживали. Но конечно, ей было тоскливо. Так и вижу, как она сидит за
своим круглым столом, пьёт чай, а рядом лежат сушки. И она смотрит и не видит. А может, и видела
что, невидимое нами? Нянечка была очень опрятная, всегда в белом платочке, а я даже ни разу на её
могилке не была…
Умывальник в кухне был жёлтый, потому что соседка Клавдея мыла там свой горшок. А её муж
Кузьма, бывший милиционер, когда сидел в туалете, никогда не запирался. Иной раз ждёшь-ждёшь,
не вытерпишь, откроешь дверь, а он там сидит! Ванна у нас была забита разным хламом, поэтому
купали нас в кухне, в детской ванночке. Стыдно было своей худобы ужасно. Но ещё ужасней был
свет от уличного фонаря в комнате. Он бегал по стенам, пугал меня, а когда падал на подпорку,
стоящую посреди комнаты, то превращал её в фигуру человека. Но не простого, а великана!
Я боялась его, боялась засыпать. Казалось, ночью что-то случится. Защиты я никакой не знала
и не видела. Взрослые жили какой-то своей жизнью, мы - своей. Про ночные страхи я недавно
написала стишок, навеянный картиной Шагала "Зеркало":
Этот сон, детский сон у окна,
Эти страхи ночные,
Крест окна, тень окна и фонарь,
Силуэты немые.
Ночью всё вырастало вдвойне,
Ужасало, пугало, вбирало,
И фигура Его в темноте
Из окна на стене проступала.
Подходила бесшумно, без слов,
Так что сердце от ужаса жалось,
И меня выдирала из снов,
А к утру как всегда растворялась...
Этот ужас я сладко ждала
В тишине перепуганных комнат:
Кто выходит там из-за угла,
Он чужой или кто-то знакомый?
И зачем Он приходит ко мне,
Или это мне чудится-снится?
Страх неведомый - дома, везде,
До сих пор он всё длится и длится…
У другой соседки, Домны Изотовны, под кроватью с длинной кружевной простынёй стояла настоящая
ночная ваза - круглая, красивая и всегда полная. Мы каждый раз наклонялись, чтобы посмотреть на это
чудо. Другое чудо стояло на комоде - стеклянное яичко, в котором что-то просвечивало. На стене
висела страшная картина - святой мученик Себастиан: руки связаны за спиной, а тело пронзено
стрелами. Кровь струилась к ногам, смотреть было жутко. Ничего общего со святостью я не чувствовала.
Вообще ничего божественного, небесного не воспринимала, кроме звёзд. Мне казалось, что на небе есть
моя звезда. Даже писала про неё стихи:
На небе много разных звёзд,
Но мне нужна одна, моя.
Ищу её среди небесных звёзд
И вижу, что одна - моя.
Я каждый вечер на неё
Смотрю с родной земли
И говорю ей: жди меня!
Но это всё мечты.
Другая соседка, Софья Дмитриевна, мыла свои длинные волосы в красивом тазу с цветами. Я всегда
смотрела и завидовала: у нас не было такого таза, а у мамы - таких замечательно длинных волос. Зато
у нас была домработница. То одна, то другая. Они меня все любили и жалели. Но быстро менялись.
Однажды меня отдали в детский сад. Я пробыла там один день и чуть не умерла. Во время тихого часа
воспитательница открыла окно, чтобы нас простудить. Я слышала, как она сказала: надо простудить эту
еврейку Деловери, чтобы её забрали. И меня забрали.
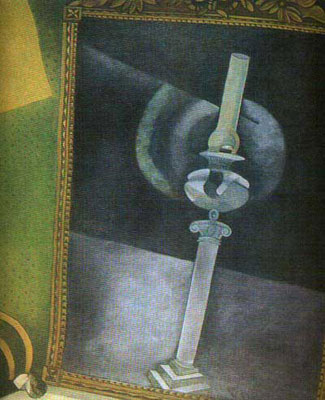
Улица
Улица - это совсем не то что двор, где всё знакомо, как в собственной квартире. Улица всегда манила
своей неизвестностью. Напротив нашего дома - знаменитый театр МХАТ. Здесь шла "Синяя птица"
Метерлинка, спектакль, на который мы бегали в антракте на второе действие (естественно, без
билетов). А налево, в подвале - общественный туалет, куда приходили разные "дамочки". Мы
догадывались, кто это: в чёрных кружевных чулках, накрашенные, с помадой, маникюром! Было чему
позавидовать! Мы приходили специально на них посмотреть, а бабушки нас гоняли: нечего вам тут
делать! Как нечего? Интересно же! Настоящая, взрослая жизнь!
В туалете мы иногда находили мелочь - три, пять копеек - и бежали в "Диету" за конфетами.
Покупали "раковые шейки" и прочую ерунду, но счастья было много.
Были в Камергерском дома, которые "проходились" насквозь, - это всегда была тайна, и немножко
страшно: входишь с улицы, поднимаешься на второй этаж, а спускаешься уже во двор. Недавно
такой же дом я обнаружила в Трёхпрудном переулке, недалеко от дома Марины Цветаевой. Мы
входили с улицы, а попадали во двор, как будто в другой, параллельный мир. Менялось всё:
воздух, ощущение, погода…
Вот так я и росла - между театром, в котором мало что понимала, так как просто обалдевала от
всего сказочного, и туалетом на углу Камергерского, где училась "взрослой жизни". Иногда мы
бегали на другую сторону улицы Горького: там, напротив телеграфа, показывали первое в Москве
кино на открытом экране. Однажды Милочка, самая наша красивая и милая девочка, попала под
машину: какой-то пьяный водитель буквально прижал её к тротуару. Это было первое страшное горе
в детстве, но бегать через дорогу мы не перестали.
Школа
Школа - это всегда тошнота и рвота по утрам. Мне натирали яблочко, чтобы я хоть что-то съела. Но и
это не шло в меня. На уроках от голода урчало в животе и я всё время мучилась. Если мы плохо себя
вели, нас выводили в коридор и заставляли маршировать. Я чуть не падала в обморок. Но училась
хорошо. По счастью, у нас во дворе открыли библиотеку на общественных началах, потом стали набирать
группу для обучения французскому языку. Мы с Танькой оказались самые способные, и вот я уже во
французской школе. Для моего развития это огромный шаг вперёд, а вот нервы мои пострадали.
Во-первых, я из отличницы превратилась в троечницу, во-вторых, надо было догонять французский. Мне
нашли настоящего француза, который здорово меня подтянул. Наша классная постоянно оставляла меня
после уроков, чтобы я научилась красиво писать, но всё было бесполезно: почерк у меня до сих пор
ужасный.
В это время я начала писать стихи, одно из первых было о смерти:
У кладбища молча старик всё стоял
И смерти покорно он медленной ждал.
Вот взор помутился,
Не видит уж он
Чудесной картины кругом,
Лишь слышит журчанье ручья вдалеке
И хочет идти он к бегущей реке.
Подходит к ней медленно,
Виден песок,
Нагнувшись,
Он делает всё же глоток,
Туманным лишь взором
Он даль охватил,
Запомнил навечно
И веки прикрыл.
С чем связано это стихотворение, до сих пор не знаю, но было мне лет десять, не больше. Очень
любила Лермонтова. Помню, однажды вбежала к бабушке и говорю: "Бабушка, послушай, какие я стихи
написала". И стала читать: "И скучно, и грустно, и некому руку подать…" И только потом сообразила,
что читаю Лермонтова.
Переезд
В тринадцать лет жизнь моя круто изменилась: мама с отчимом и сестрой уехали на новую квартиру, на
Соколе. А я осталась с бабушкой и нянечкой. Нянечка - это что-то особенное в моей жизни. Это такой
душевный уют, покой, мир. Звали её Агафья Карповна Христофорова. Почти Арина Родионовна. Она мне
часто рассказывала о своей жизни, открывала сундуки со старинными вещами - сарафанами, рушниками,
шубами, а главное - успокаивала, когда мы ссорились с бабушкой. Я приходила к нянечке, садилась на
большой сундук, облизывала мизинчик и макала его в соль. Я сосала соль, а нянечка что-нибудь
рассказывала. И я успокаивалась. Мне всё нравилось у нянечки: вышитые салфетки, пирожки, шкаф, в
котором висели красивые платья её жилички Ии (нянечка всё время сдавала кому-нибудь угол комнаты,
на это и жила). Я всегда их рассматривала, а то и примеряла.
Так вот. Меня с бабушкой и нянечкой переселили на мансарду нашего же дома, так как наша
комната была в аварийном состоянии. Ну а мансарда - это почти что Париж!
Из окна выходишь прямо на крышу, а главное - рядом мастерские художников. Эти весёлые люди
всегда занимали у моей бабушки три рубля и потом долго не отдавали. У нас с художниками
сложились дивные отношения, и однажды один из них взялся написать наш с Танькой портрет
в костюмах мушкетёров. Потому что к тому времени мы уже были помешаны на них: Танька была
Арамисом, я - Атосом, другая Танька, Пентюхова, - то Портосом, то Д'Артаньяном. У нас были
настоящие сражения, погони... У нас даже была мушкетерская комната! (В ней никто не жил,
потому что окно выходило на лестничную клетку.) Там висела биография настоящего капитана
мушкетеров Д'Артаньяна, там стояли шпаги, там мы в шляпах с перьями чувствовали себя какими-то
необыкновенными существами, знающими толк в дружбе и вообще в жизни!
Однажды мы обнаружили в комнате подпол и поползли по нему, корябаясь о битое стекло и кирпичи.
Наконец доползли до какой-то кладовки, и оказалось, что это подпол комнаты Софьи Дмитриевны,
которая тоже переехала на мансарду. Представляете? Мы вошли в её комнату не через дверь,
а снизу, из-под пола! Мы увидели китайских болванчиков и много всего китайского - веера,
атласные подушки с журавлями… Лезть назад не хотелось, и мы вышли через дверь. А ночью
началось самое страшное: Софья Дмитриевна обнаружила, что в комнате кто-то был, и решила
заявить в милицию. Она сказала об этом бабушке, а бабушка передала мне. Что делать? Я
представила, как милиция придёт с собаками и собаки выйдут на мой след! Что тогда? Меня
загрызут? Посадят в тюрьму? И я решила во всём признаться бабушке. Таньке-то хорошо, она
жила в другом доме, спала себе и не знала, что со мной происходит. В общем, бабушка
пошепталась с Софьей Дмитриевной и та нас простила, но пригрозила, что если это случится
ещё раз, то нам несдобровать.
Парадное
У всех были двери, а у нас - парадное. Большая солидная дверь, выходящая не во двор, а на улицу.
Ступени в доме были широкие и явно требовали ковра. Позднее выяснилось, что в этом доме была
гостиница Шевалье! В которой останавливались Лев Толстой, Тургенев, Чаадаев! Но в пятидесятые годы
двадцатого века на первом этаже располагалась контора "Москнига", а на втором - две коммуналки, в
одной из которых я и жила. Когда-то вся эта квартира принадлежала нам, точнее бабушке с дедушкой,
потому что бабушкин второй муж, Лев Николаевский, был министром пищевой промышленности Украины и
имел две квартиры - в Киеве и в Москве. Потом, в тридцать седьмом, его арестовали и расстреляли;
бабушку взяли в тридцать девятом, и квартиру стали заселять разными жильцами. Среди первых был
милиционер Кузьма Иванович с женой Клавдеей, которые доносили на бабушку, когда она приезжала домой
во время ссылки. Мама хорошо помнит, как забирали бабушку, у нас даже сохранилась опись вещей,
которые она взяла с собой в лагерь, - валенки, носки, пальто и прочее. Мама осталась на попечении
нянечки, ей тогда было всего пятнадцать лет, и она была "дочерью врага народа".
Наша дверь называлась "парадное", а бабушкина фамилия по первому мужу (он был врач, умер в
1924 году) была Ратная. И девчонки меня дразнили: Ратная-Парадная.
Обычно я не боялась нашего подъезда - внизу вечно сновали служащие из конторы, а наверх никто
не заходил, кроме жильцов. Но однажды…
Однажды в городе появились цыгане. Я вернулась из школы, открыла парадное и увидела, что на
всех ступеньках, снизу доверху, сидят цыгане. Кто-то спал, кто-то кормил детей - в общем,
целый табор. Как пройти домой? Почему-то я испугалась. Чего? Не знаю толком. Наверное, их
количества. Я погуляла во дворе, послонялась на улице, однако пора было обедать, да и бабушка,
наверное, волновалась. Наконец я преодолела страх и пошла вверх по лестнице, переступая через
цыган и цыганок. Я позвонила в дверь, бабушка открыла, и две цыганки умудрились проскользнуть
за мной.
Дальше всё было как во сне. Кажется, цыганки попросили воды и бабушка вышла на кухню.
Не помню, была ли я в комнате. Прошла минута, не больше. Они выпили воды и ушли. Когда мама
вернулась с работы, стали проверять, всё ли на месте. Деньги, сорок рублей, лежали в коробочке
нетронутыми. "Ну, слава Богу, ничего не взяли!" - решили мама с бабушкой, но спустя несколько
дней обнаружилось, что пропали мамины кольца, - они лежали в шкафу, среди белья. Долго ещё
потом обсуждали этот случай, поражались прозорливости цыганок - что они полезли не
куда-нибудь, а именно в шкаф, и нашли то, чем мама так редко пользовалась, берегла на чёрный
день. После этого дорогие вещи стали перепрятывать и уже не клали среди белья.
Я стала побаиваться входить в подъезд. Однажды после школы я увидела на лестничной площадке
какого-то мужчину. Я закрыла дверь и стала ждать, когда он уйдёт. Он не уходил. Пройти мимо
него почему-то было страшно. Я ждала, когда в подъезд войдёт кто-нибудь из взрослых. Прождала
часа два, пока не вошла соседка из второй квартиры. С ней я и пошла, а одна так и не решилась.
Страх войти в подъезд, когда там стоит кто-то чужой, остался на всю жизнь. Тогда много
говорили о каких-то страшных случаях, и я боялась, что это случится со мной. Цыган я тоже
стала побаиваться, хотя в "Войне и мире" они мне нравились, нравилась атмосфера веселья. Мы с
Танькой любили цыганские песни и танцы.
Совсем детство
Помню, что я всё время плакала, что мне не хватало отца. Я ждала его, мне говорили, что он в
командировке, а к Новому году вернётся. Я ждала Нового года, но папа не приходил (родители
развелись, когда мне было два года). Осталось воспоминание, что когда папа приезжал, он доставал
из чемодана подарки и подбрасывал меня к потолку. Пожалуй, вот этого ощущения сильных рук и полёта
мне и не хватало. Потом как-то дедушка сказал про меня - видно, шутя: "Подкидыш". И я стала думать,
что я чужая, что у меня другие родители. От этого рождалось чувство одиночества и инаковости. Иногда
дедушка сажал меня на колено, подбрасывал и пел что-то по-еврейски; помню только одно слово -
"шикселе", кажется, это вундеркинд. Дедушка был на самом деле дядей, мужем бабушкиной сестры, тёти
Сарры. Его звали Лёвушка, и жил он в Лёвшинском переулке. Помню, как нас возили к ним в гости. Это
всегда был праздник. Когда мы подросли и уже не умещались в ванночке, нас возили туда мыться. У деда
была ванная с колонкой и ужасные соседи Маматкины, которые ненавидели деда с тётей, а заодно и всех
нас. (Когда-то здесь была конспиративная квартира Савинкова.) Мы купались и оставались там на ночь.
Ночью меня кусали клопы, я просыпалась, будила тётю; тогда зажигали свет и искали клопов. Спала я
всегда плохо, а в гостях особенно. У деда был телевизор, а за перегородкой жил его племянник,
Витька. С ним всегда было весело и интересно. Иногда приезжал его брат Лёвик, начинались споры,
в основном политические. Всё нам было страшно интересно, всё мы впитывали и казались себе ужасно
умными. Кажется, Маматкины подслушивали и куда-то доносили. Потому что дедушка всё время говорил
нам: тише, тише! Потом Витька стал доктором наук, знаменитым генетиком, уехал в Америку и умер от
рака.
Лагерь
Каждое лето нас с сестрой отправляли в пионерский лагерь. Для меня это была мука. Я боялась
отрываться от дома, от мамы с бабушкой, от Москвы. За неделю до отъезда я уже нервничала, не спала,
не ела. День отъезда был для меня чуть ли не концом света, в автобусе меня тошнило, и я с трудом
привыкала к новой, лагерной жизни. Но потом, если лагерь был хороший, я быстро привыкала, и мне всё
начинало нравиться. Я обязательно влюблялась в вожатого, и жизнь в лагере преображалась. Уезжала я
из лагеря тоже со слезами: жаль было новых подружек, своей влюблённости, песен у костра и всяких
лагерных тайн и приключений. В лагере я участвовала в спартакиадах, побеждала по бегу, по прыжкам в
длину и в высоту, и была счастлива. Я загорала, немного прибавляла в весе и становилась ужасно
хорошенькая. По-моему, я нравилась. Любила костры, печёную картошку с чёрным хлебушком и луком,
который мы заранее таскали с кухни.
Но однажды в лагере в меня влюбился один мальчишка из старшего отряда. Он стал ко мне
приставать, хотел поцеловать. Я отказывалась, убегала. Тогда он подговорил свою сестру из
нашего отряда, чтобы она меня держала. И вот она меня держала, а он целовал. Я вырывалась,
плакала, но была бессильна. На родительском дне умоляла маму, чтобы она забрала меня отсюда, но
мама велела потерпеть. Я терпела, мучилась и мечтала сбежать из лагеря. Эта мечта была такой
сильной, что мне стало казаться, будто я и вправду сбежала из этого лагеря. Впрочем, я и до сих
пор не знаю, что правда, а что нет.
Когда я была маленькой, то казалась себе очень умной. Мне хотелось, чтобы взрослые это
заметили. Если на меня кто-то смотрел, я принимала умный и серьёзный вид. Чтобы подумали:
вот какая умная девочка! Я чувствовала себя не такой как все и очень боялась, что у меня
ничего в жизни не получится: что я замуж не выйду, не рожу детей, не устроюсь на работу.
Будущее меня пугало: смогу ли я жить взрослой жизнью?
Засыпала я всегда с трудом и только при свете лампы. Вообще необходимо было чьё-то
присутствие.
Позже написалось такое стихотворение:
Я всё ужасно переживаю,
Что ночью долго не засыпаю,
Переживаю, что я несмелая,
Что даже летом незагорелая,
Что я какая-то не такая…
Переживаю, когда толкают,
Переживаю страшные книжки
И что не дружат со мной мальчишки.
Ещё я очень переживаю,
Зачем я всё так переживаю?
И ещё я мечтала стать писательницей и писать, как Достоевский про Неточку Незванову, чтобы
все плакали. Отчасти это получилось, но сейчас мне хочется, чтобы люди больше улыбались.
Кажется, мои новые стихи дают им эту возможность.

В публикации использованы картины Марка Шагала "Зеркало" (1914 г.)
и "Время - река без берегов" (1930-1939 гг.).
[в пампасы]
|